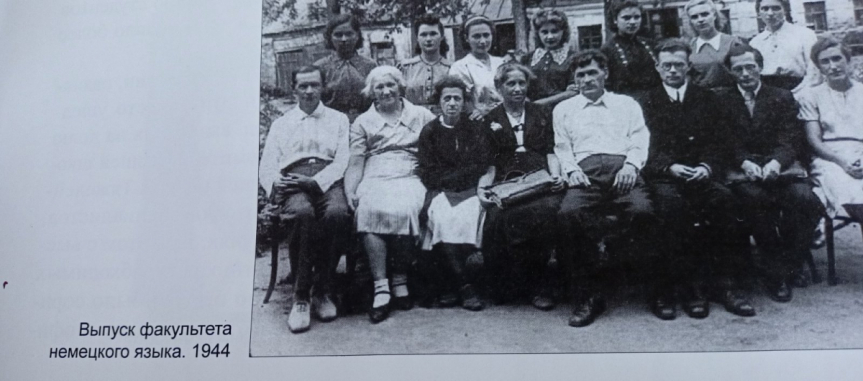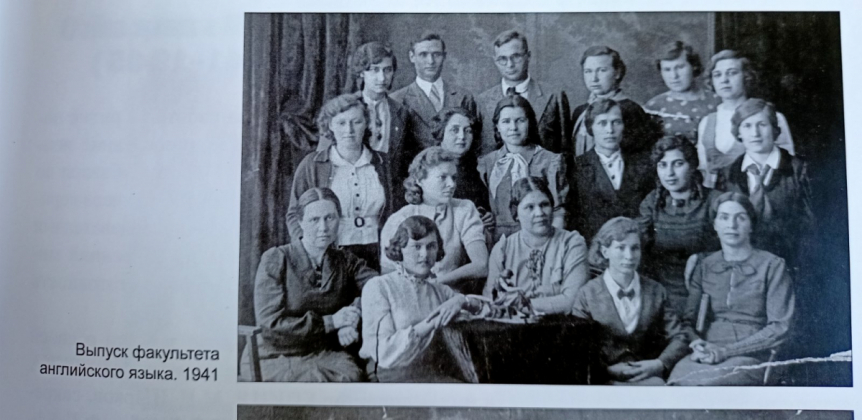Бессмертный полк НГЛУ: как Горьковский иняз приближал Великую Победу
Утром 22 июня 1941 г. коллектив Горьковского иняза работал в ритме повседневной жизни. Сессия заканчивалась, в аудиториях вуза шли последние экзамены. В 12 часов пополудни председатель Совнаркома В. М. Молотов объявил по радио о внезапном нападении фашистской Германии на СССР. Около 13 часов коридоры и помещения института стали наполняться взволнованными преподавателями и студентами. Их настроения вылились в незапланированный, но искренний митинг, волна которых в этот день прошла по всей стране.
23 июня на открытом партийном собрании иняза многие заявили о своей готовности немедленно отправиться на фронт. В ближайшее время в ряды РККА вступили десятки инязовцев. Среди них – директор ГГПИИЯ М. И. Шарков, секретарь партбюро М. Г. Серебров, преподаватели Ф. И. Архипов, Н. С. Власов, Ф. Г. Ефграфов, Г. Н. Рожков, В. Г. Соболев, студенты Н. И. Клопков, секретарь комитета ВЛКСМ, М. Кулагин, Ц. Файнина, О. Глазов, А. Горбунова, Г. Глазова, О. Шигонцева, П. Голов, Н. Кирсанов, Г. Рыжов, Е. Мошкина, К. Некрасов, В. Санжар, А. Дерюгин и др.
Между тем, жизнь учебного заведения (как и иных советских учреждений того времени) шла по графику, учебные поручения и служебные обязанности продолжали оставаться рабочей задачей преподавателей и сотрудников иняза. Вне зависимости от патриотических чувств студенты должны были учиться. Руководство вуза в новых условиях было обязано приспосабливать учебный процесс к военному времени и его требованиям. И потому учебные занятия на II курсе (177 человек), III (165 человек) и IV (130 человек) начались 1 августа 1941 г.. 237 человек, зачисленные на I курс, начали семестр, как обычно, 1 сентября. Таким образом, общий контингент студентов в 1941-1942 уч. г. составил более 700 человек. Однако преподавательский состав и количество студентов заметно сократились в течение первых двух месяцев войны: в армию ушло более 60 человек.
В конце августа 1941 г. и. о. директора ГГПИИЯ стал П. И. Шульпин, назначенный на эту должность решением Горьковского обкома партии вместо ушедшего в армию М. И. Шаркова. Соответствующий приказ № 131 С 108 по институту был подписан 29 августа того года. Через месяц П. И. Шульпин был утвержден в должности директора вуза.
На вуз была возложена задача реализации приказа Всесоюзного Комитета высшей школы (ВКВШ) от 30 июня 1941 г. о перестройке работы высшей школы.
Тяжелейшие условия войны потребовали от вузов системной подготовки специалистов, чья квалификация была нужна, прежде всего, в боевых условиях, при том, с высшей школы не снимались задачи выпуска из её стен работников, необходимых тылу. Иными словами: инязовское преподавание достаточно быстро было сориентировано на ускоренную, но вполне качественную подготовку солдат и офицеров-переводчиков, разведчиков, контрразведчиков, служащих других воинских подразделений. Вместе с тем, ГГПИИЯ продолжал плановое обучение будущих учителей общеобразовательных средних школ.
П. И. Шульпину приходилось решать разноплановые задачи вуза в предельно жестких условиях конкретики военного времени. Почти немедленно вверенный ему вуз попал в полосу нехваток и потерь. Развернувшееся накануне войны строительство собственного учебного корпуса на улице Минина было быстро заморожено. Ранее занимаемое для занятий помещение на Черном пруду было изъято военными организациями без объяснений причин и обстоятельств такого решения. Осенью 1941 г. директор иняза находит помещения для учебы своих студентов в стенах речного техникума (ныне здание Нижегородского речного училища), причем курсанты техникума продолжали свои плановые занятия. Таким образом, весь 1941-1942 уч. г. коллектив иняза проводил образовательный процесс во вторую смену.
Можно удивляться тому, что учебные занятия не были сорваны вовсе под напором растущей массы новых «вводных». Продолжающийся уход на фронт добровольцев (в начале уч. г. военными переводчиками стали 30 человек, в марте 1942 г. – 20 человек) сокращал количество обучаемых, но аудиторного фонда института при этом все равно не хватало. Дело в том, что соответствующие распоряжения из Москвы сократили общий срок обучения в ГГПИИЯ с четырех до трех лет.
Вместе с тем, студенты, да и преподаватели, не могли сосредоточиться на учебных делах в связи с полосой сельскохозяйственных работ. Две недели в сентябре-октябре 1941 г. более 100 человек-инязовцев участвовали в уборочной.
С 27 октября по 5 января более 300 студентов, а также часть преподавателей, работали на строительстве оборонительного рубежа близ города Горького. В течение более двух очень холодных осенне-зимних месяцев 1941 г. они вырыли вручную около 5 тысяч кубометров земли.
Зимой 1941–1942 гг. сотни студентов направлялись по разнарядке на работы (субботники) по очистке трамвайных путей от снега.
В результате второй семестр 1941-1942 уч. г. начался только 1 апреля 1942 г. Тогда свои учебные места заняли лишь 349 студентов. Число обучаемых вновь сократилось, но проблема учебных площадей оставалась прежней. Перед вузом стояла задача нового приема студентов на 1942-1943 уч. г.; квоты (а значит и количественные нормы) приёма никто не сокращал.
Таким образом, директор Шульпин должен был изыскивать новые помещения для учебных занятий, причем, встречая почти везде постоянные отказы, обоснованные ссылками на трудности военного времени. Летом 1942 г. он ходатайствовал перед властями о возврате вузу его прежнего здания на Черном пруду. Шульпин добился освобождения пяти помещений при острой необходимости для института, как минимум, 16 комнат. Осенью он продолжил поиск площадей и сумел добиться решения градоначальников о передаче инязу 11-и аудиторий из фонда ГПИ имени М. Горького на новый учебный год. Но и это пополнение не решало до конца проблему аудиторного фонда ГГПИИЯ, ибо не уменьшались планы по приёму новых студентов.
Общий план приёма первокурсников на 1942-1943 уч. г. составил 270 человек (120 – ФАЯ, 75 – ФФЯ, 75 – ФНЯ). Это потребовало серьезной и напряженной предварительной работы по профориентации.
К тому же новое распоряжение Москвы по возвращению к четырехлетнему обучению внесло дополнительные трудности в организацию образовательного процесса в новом учебном году. Вновь становился актуальным вопрос учебных помещений. В тех условиях Шульпин добивается аренды части помещений Дома партийного просвещения.
Тем не менее, инязу пришлось перейти на трехсменное обучение со всеми его трудностями и проблемами, в том числе и хозяйственно-бытового плана. Так как учебные помещения отапливались дровяными печами, студенты в приказном порядке посменно работали на разгрузке дров, а администрация изыскивала средства на их приобретение. Мировая война приближалась к своему апогею, а коллектив вуза был вынужден решать обычные для мирного времени бытовые задачи. Так, в январе 1943 г. в помещениях ГПИ, занятых студентами иняза, произошла мощная авария отопительной системы, потребовавшая новой концентрации убывающих сил и скудеющих ресурсов ГГПИИЯ.
В вузе работали и учились люди все с теми же потребностями и запросами, не исчезнувшими с началом войны. Руководству иняза надо было думать о местах проживания студентов. В 1942-1943 уч. г. в общежитии нуждалось 130 человек, а дирекция располагала лишь 35-ю местами.
Продолжал оставаться нерешенным вопрос об организации питания студентов и преподавателей. Своей столовой иняз не имел; приходилось использовать пищеблок речного техникума, где количество посадочных мест было ограничено. Кроме того, студенты целенаправленно использовали столовую института усовершенствования учителей, а преподаватели – столовую областного комитета союза высшей школы.
Конечно, большим подспорьем в обеспечении питания студентов и преподавателей было правительственное решение, приравнявшее студенчество и преподавательский состав к нормам снабжения рабочих. К тому же, в 1942 г. при институте было создано подсобное хозяйство (отв. преподаватель А. И. Гергардт). В 1942 г. вуз располагал 6,5 гектарами земли, а с 1943 г. – 13 гектарами. На этом участке своими силами выращивали картофель, просо, гречу, свеклу и т. д., что значительно улучшало питание студентов и преподавателей. Обретение и дальнейшее развитие подсобного хозяйства требовало предварительных затрат и ресурсов, в том числе обеспечения его транспортом.
В годы войны, во время предельного напряжения всех государственных и общественных ресурсов, решение хозяйственно-бытовых проблем становилось более чем трудным делом, а игнорирование их неминуемо влекло за собой довольно быстрый паралич учебно-образовательного процесса. Таким образом, на плечи руководства института ложилось снятие совершенно разноплановых, но жестко переплетенных проблем.
Отметим также, что менялось в сторону увеличения число обучаемых в инязе, что создавало необходимость новых организационных усилий для его руководства. К концу 1942-1943 уч. г. количество студентов составляло 745 человек. В условиях военного лихолетья эта цифра почти не менялась: в 1943-1944 уч. г. в инязе было 668 обучаемых, а в 1944-1945 – 696.
В годы Великой Отечественной войны неизбежно и резко возросла интенсивность труда как студентов, так и преподавателей. Были отменены отпуска и студенческие каникулы. Помимо учебной, педагогической и научной деятельности, преподаватели постоянно и плотно занимались общественной работой и достаточно часто физическим трудом. Никто не снимал с них ответственность за реализацию учебно-методического процесса; наоборот, требования к нему возрастали, равно как и требования к учебной дисциплине студентов. Живущие в разных концах города обучаемые добирались в его центр в условиях хронических перебоев в работе транспорта или в условиях его полного отсутствия. Тем не менее, известно, что тогда преподаватели и руководители ГГПИИЯ не сетовали на слабость исполнительской дисциплины своих подопечных.
Особую страницу в контексте истории института в годы войны составила разноплановая, но системная работа в деле оказания всесторонней и эффективной помощи фронту. Решением вышестоящих инстанций П. И. Шульпин (как и все первые лица различных учреждений) стал персональным руководителем этого направления деятельности вверенного ему коллектива. По должности он стал командиром колонны, брошенной на строительство оборонительных сооружений в конце октября 1941 г. Колонна была сформирована достаточно быстро и укомплектована полностью. Её комиссаром была назначена Н. М. Лобода. В суровых осенне-зимних условиях днем и ночью студенты и преподаватели на западной окраине Горьковской области рыли траншеи, противотанковые рвы, создавали завалы и надолбы.
Задание было выполнено целиком и к установленному сроку – 5 января 1942 г. За доблестный труд П. И. Шульпин, Н. М. Лобода, И. С. Комаров были награждены медалями «За оборону Москвы». Группа сотрудников и преподавателей – З. Ф. Теплова, А. К. Томлянович, О. П. Сергеева, Т. Г. Лашкина, З. С. Прусова, Е. И. Соколова, а также студенты Е. Кутузова, Г. Мезина, М. Владимирова – благодарностями и почетными грамотами Горьковского областного комитета ВКП(б).